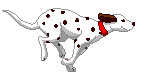Я люблю ездить в поезде. Люблю рокот колес, люблю специфический вагонный запах, люблю смотреть, как бегут мимо пыльного окна города, деревеньки, поля, луга, речушки; как сбочь дороги поднимаются, тянутся вверх, изгибаясь пологой параболой, провода, достигают апогея - опоры - и падают вниз, вновь поднимаются и вновь падают, поднимаются и падают... Люблю открывать окно в тамбуре и слушать, как диспетчер на станции что-то говорит кому-то по громкой связи – всегда оглушительно громко и совершенно непонятно. И просто стоять и ловить встречный поток воздуха, несущего запахи – такие разные, такие трогательно-знакомые...
***
Пассажиры поездов – особая категория граждан. Я бы даже сказала: партия. В ней свой устав: быстро входить в контакт с соседом; своя униформа: линялые трико с пузырями на коленях и майка для мужчин, байковый халат для женщин, тапочки для обоих полов; свои взносы: бутылка спиртного, вареная курица, обложенная крутыми яйцами и красномордыми помидорами и соль в спичечном коробке.
Я в этой партии представляю некую фракцию молчаливых наблюдателей. У меня, как правило, нет тапочек и халата, вместо курицы я запасаюсь яблоками, а разгадку сканвордов я предпочитаю общению с однопартийцами. Я занимаю верхнюю боковую полку (классическое место фракционера!) и смотрю с высоты своего положения на то, как кипит внизу бурная пассажирская жизнь.
Пассажиры, хоть они объединены в одну партию едиными целями и задачами, тоже бывают всякие. Сказывается территориальная принадлежность. Представьте на минуту, что в одном купе оказались мастеровой мужичок-архангелогородец, москвич-интеллектуал при шляпе и галстуке и дородная кубанская казачка. Воображаю, какая беседа могла бы между ними завязаться – прелесть! Но особенно, на мой взгляд, колоритны пассажиры-вятичи – мои милые земляки.
***
Сентябрь 2002 года. Москва. Казанский вокзал. Фирменный поезд «Вятка» был готов отвезти меня на родину в Киров, на последнюю, как выяснилось потом, встречу с моими мамой и братом. Минут за десять до отправления я заняла свое место фракционера и сидела тихонечко, стараясь не мешать пассажирам, продирающимся по узенькому проходу к своим местам.
- Витя! Витя! – полная женщина, обвешанная невероятным количеством разномастных сумок, крутила головой с растрепанной дулькой простенькой прически направо и налево. – Витя, сволочь такая, ты где, паразит? Вот наши-то места! Витя! Где ты, скотина?!
- Ты куды, дуришша, приперлася? У нас ить другой вагон! – через головы сипло орал из тамбура Витя. – Ташши все сюды!
- Дак как же другой-то? Ить третий! Я сама от паровоза пошшитала! Поди, до трех-то умею ишшо шшитати! – с надеждой в голосе прокричала в ответ толстушка.
- На вагоне «10» написано! Здеся с хвоста шшитают!
- Ох, мать моя, женшина! Вот наказанье-то! – тетка, тяжело засопев, стала протискиваться против пассажирского течения к своему паразиту и скотине Вите.
- Куда тя несет? Не вишь – люди идут! Разуй шары-то! Пропущай! – накинулась на толстуху кругленькая розовощекая бабка, за которой следовал высокий худой мужчина с кладью в обеих руках.
- Сама пропущай! – нервно взвизгнула тетка. – Мне в другой вагон надо!
- А че тогды здеся, как пугало, торчишь? – прошипела бабка, бочком протискиваясь в купе и бережно, как младенца, прижимая к груди объемистую серую сумку.
- Сама ты пугало огородное, обормотка старая!
- Ах ты, сучка подзаборная! Анатолий! Ты слышал?
Анатолий шевельнул косматыми бровями в сторону толстушки. Потом молча поднял свой багаж, состоящий из нескольких разноцветных пластиковых пакетов, на недосягаемую высоту третьей полки. Полная тетка мгновенно прошмыгнула в образовавшееся у ног мужчины свободное пространство и исчезла вместе со своими сумками в тамбуре.
Бабка с Анатолием оказались моими попутчиками. Они уложили пакеты и серую дерматиновую сумку со сломанным замком-молнией и поэтому перетянутую веревочкой в багажные отсеки и расположились на двух нижних полках, друг напротив друга.
Бабка глянула в окно, покрутила головой:
- В каку сторону поедем-то?
Анатолий молча указал рукой направление.
- Туды? Тогды давай местами меняться. Сам ить знаш: не могу я вверьх-то ногами ехать, укачиват!
Мужчина молча встал и пересел на бабкино место.
Поезд медленно тронулся.
Пересев, бабка сняла с себя черную вязаную кофту, аккуратно сложила ее, стряхнула невидимые пылинки и сощипнула только ей замеченные соринки, критически осмотрела результаты своего труда, недовольно скривилась, расправила кофту, встряхнула ее, вновь сложила, вновь удалила пылинки-соринки и скомандовала мужу:
- Положи-ка на место!
Муж открыл багажник и вынул оттуда пластиковый пакет.
- Не этот! – буркнула бабулька. – С красными буквами!
Муж достал пакет с красными буквами и небрежно запихнул туда тщательно сложенную кофту.
- Ты че так суешь-то! Потом мне че, в жеваной ходити?
Анатолий не отреагировал, поставил пакет с торчащей как попало кофтой обратно в багажник, опустил полку и сел.
- Дак тапки-то че не достал? Тапки достань и халат мой!
Анатолий встал, открыл отсек, достал пакет с красными буквами.
- Не тут! В черной котомке!
Мужчина вновь нагнулся над раскрытым багажником и зашуршал пакетами.
- Дак здеся она! - бабка ткнула пальцем в полку, на которой сидела.
Анатолий недоуменно пожал плечами – мол, так бы сразу и сказала, закрыл свою полку и открыл бабкину, достал искомый черный пакет и стал вынимать из него вещи: платки, рубашки, нижнее белье, какие-то свертки. Бабка высунулась из-за его спины.
- Дак ты че, не видишь? Нету тут тапок! В желтом мешке они!
Желтый пакет, к счастью, оказался в этом же отделении, что и черный. Тапки и халат были извлечены на свет божий, вынутые тряпки были небрежной Анатолиевой рукой под бабкины причитания запихнуты обратно в черный пакет, который отправился в багажник.
Бабка, поджав обиженно губы, сняла туфли, обула тапочки и пошла в туалет переодеваться. Мужчина молча смотрел в окно, облокотившись на столик и подперев голову рукой.
- Иди переоденься, пока очереди нет, а то набегут! – бабка, облаченная в байковый халат веселенькой расцветки, вернулась минут через пять и принялась с невероятной тщательностью складывать, сощипывать соринки, встряхивать и снова складывать свое шерстяное платье.
Муж продолжал невозмутимо смотреть в окно. За все время поездки я так и не увидела его в трико и тапках. Тоже, видать, партийный отщепенец...
Спустя несколько минут Анатолий оторвался от окна, за которым запутывались в деревьях синеватые сумерки, и сказал первую, за прошедший с начала путешествия час, фразу:
- Пойду покурю.
Слава тебе, Господи! А то я было подумала, что он немой!
- Ну-ну! – отозвалась его жена, неодобрительно поджав губы.
Мужчина вынул из внутреннего кармана пиджака пачку «Беломора», с аккуратным, ровно для одной папиросы, прямоугольным отверстием на углу и коробок спичек и пошел в тамбур, зацепив по пути ногой стоящие возле его полки тапочки, предназначенные заботливой супругой для своего молчаливого мужа. От толчка тапочки разлетелись в разные стороны.
- Поправь тапки-то! – мгновенно отреагировала бабулька.
Муж, не оглянувшись, удалился.
- Ох, уж эти мужики! – бабка, демонстративно заохав, наклонилась и поставила тапочки ровно – пяточками к полке. – Имя что в лоб, то и по лбу! Всю жись за имя убирай! Всю жи-ись!
Я проводила мужчину глазами: он прошел в тамбур и скрылся за дверью туалета.
***
Езда в поезде почему-то нравится не всем, многие находят ее напрасной тратой драгоценного времени. И действительно: что толку попусту таращиться в окно или наблюдать за соседями, когда еще кучу дел надо провернуть! Может быть, это действительно так и, может быть, я фракционер не только в партии пассажиров, но и в партии ценителей жизни, если вид из вагонного окна для меня подчас важнее возможности заработать лишний рубль.
Вообще, вагонное окно, а особенно окно в тамбуре, имеет странную особенность сближать людей. Однажды, будучи студенткой первого курса, я ехала от матери, которая жила тогда на севере Кировской области, в Киров. Была весна, начало мая, повсюду еще лежал сырой, набрякший талой водой, снег, в котором, завязнув по щиколотки, стояли продрогшие деревья, розовея готовыми взорваться почками. И никакой паровозный дух не мог перешибить умопомрачительный аромат весенней свежести, бьющий в окно тамбура. Я стояла, вцепившись в поручень и дрожа от холода, но желания уйти в душный переполненный вагон не было.
Дверь за моей спиной открылась и в тамбур вошел белобрысый парнишка, встал рядом со мной и тоже потянулся лицом к струе ветра. Мы обменялись какими-то фразами, как будто были давным-давно знакомы и через пару минут уже пели что-то на пару. Потом болтали и снова пели. И не было роднее и ближе нас никого на свете!
Так мы простояли все четыре часа пути до города и расстались на вокзале навсегда. Почему-то так получилось, хотя мы и обменялись адресами.
Прошел не один десяток лет, а я вспоминаю эту случайную встречу, как какое-то знаковое событие в моей жизни. И сколько бы раз я ни ездила поездом, мне всегда казалось, что стоит только выйти в тамбур, опустить вниз окно, как откроется дверь и войдет худенький студент Сережа, лица которого я уже не помню, а помню только восторг в его светлых глазах от летящей навстречу весны, и мы снова будем стоять рядом, насквозь продуваемые сумасшедшим ветром стремительной жизни... ***
Наведя порядок, бабка принялась выкладывать из серой дерматиновой сумки на застеленный газетой стол дорожную снедь - классический вариант партийных взносов: курица, яйца, помидоры. И то верно: пора перекусить, проводница уже разносила чай.
- Ну, дак че, накурился? – этими словами встретила бабка вернувшегося мужа. – Тапки-то че за собой не поправил?
Он молча сел к столику и придвинул к себе курицу.
Бабка облупила яичко, намазала маслом кусочек хлеба и, часто, по-кроличьи двигая челюстями, начала жевать. Несколько минут в купе царило умиротворение, которое неожиданно было прервано бабкиным воплем:
- Анатолий! Таблетки-то я забыла выпить! Перед едой надоть! Достань-ко мне таблетки-то!
Муж вопросительно взглянул на жену.
- Они в синем мешке с оторванной ручкой!
Мужчина отложил куриную ногу, вытер руки полотенцем и открыл свою полку. Синего пакета с оторванной ручкой в его отделении не оказалось. Он опустил свою полку, поднял бабкину. Пакета не было и там.
Бабка схватилась за сердце.
- Хосподи, Боже ты мой, Исусе-Христе! Потерял! Ирод! Где? В руки ить тебе было дадено! В руки-и! Иши-свишши чичас! А куды я без лекарства-то? Хоть ложись и помирай! Ой, Хо-осподи-и! – причитала бабка, всплескивая руками.
Анатолий не слушал: он обгладывал куриную ножку.
- Ой, нет! Погоди-ко: ручка-то в метро оторвалась, дак мы на вокзале синий мешок-от выбросили, - радостно спохватилась паникерша. - Таблетки-то таперя в красном!
После уже традиционного открывания-закрывания полок таблетки были найдены и торжественно выпиты. Радостная бабка цапнула куриное крылышко и снова мелко-мелко, часто-часто стала жевать.
После ужина бабка принялась убирать остатки еды по десять раз перепаковывая все в мятые газеты и бормоча себе под нос:
- Попередавится ить все! Выбрасывай потом, скоко денег уплочено было – все коту под хвост!
Мужчина разложил постель и, не раздеваясь, лег.
- Анатолий, дак ты бы переоделся, помнешь штаны-то! – встревожено задергалась бабка, но муж не реагировал – он уже сладко похрапывал.
- О, Хосподи-и! – только и смогла сказать супруга-аккуратистка.
***
Народ в вагоне укладывался на ночлег, умолкли разговоры, погас яркий свет. Стало почти тихо, лишь ровный говор колес, летящих по рельсам без стыков, сопенье спящих, да бряканье ложечки в стакане на чьем-то столике нарушало тишину.
Мне не спалось. Я вышла в тамбур, встала у окна, прижалась лбом к стеклу и закрылась от тусклого света лампочки ладонями. За окном черным сатином струилась сентябрьская ночь, кое-где, как булавками, проколотая точечками огней.
Сколько раз, вот так как сейчас, я вглядывалась в летящую за стеклом темноту, ловя взглядом редкие цветные пятна: фонарь над полустанком, под которым в круге света стоит сонная тетенька в черной униформе, держа в руке свернутый желтый флажок, красная лампочка шлагбаума на переезде, молочно-белое лицо луны, бегущей через лес вслед за поездом...
В щелочку рамы тянуло запахами картофельной ботвы и дыма. Я опустила веки: и вот я снова дома, на голом приусадебном участке, с которого только что убрана картошка. Рядом со мной на куче еще не увядшей ботвы сидит мой брат. Мы смотрим, как постепенно тускнеет ясное небо, как медленно тянутся к нашим ногам длинные тени. «Пойдем печь картошку?» - спрашивает он меня и я радостно киваю в ответ. Что может быть ярче и теплее костра в осенней ночи! Костра, который мы всегда разводили на нашем любимом месте – маленькой косе на излучине речки. Там мы пекли картошку и жарили на ивовых прутиках только что пойманных пескарей.
Как хорошо бы и сейчас посидеть у живого огня, перекидывая из ладони в ладонь обугленную картофелину! И искры падали бы в бездну черного неба, и нам было бы весело, и у брата были бы такие же восторженные глаза, как у мальчика Сережи из весеннего поезда...
Не размыкая век, я потянула оконную ручку вниз.
Закрыто!
Окно в прошлое было закрыто.
***
Утром меня разбудило ритмичное клацанье челюстей: мои попутчики завтракали, уничтожая остатки ужина. Я хмыкнула про себя: и стоило все это так тщательно запаковывать? Я встала, собрала постель, умылась и стала пить чай, исподтишка поглядывая на соседей.
После трапезы мужчина сказал свою вторую и последнюю, услышанную мной от него, фразу:
- Пойду покурю.
- Ну-ну! – уже привычно для меня скривилась в ответ жена.
Муж вышел из купе, запнувшись по пути о тапки. Реакция бабки была предсказуема:
- Поправь тапки-то!
Он, разумеется, даже не оглянулся, а она, кряхтя и причитая, поставила ненужные мужу тапки на место.
- Ну, дак че, накурился? – стандартный, по все видимости, вопрос удостоился и стандартного ответа возвратившегося после десятиминутной отлучки Анатолия – молчания.
Проводница стала собирать постельное белье, через час мы должны были прибыть в Киров. Бабка побежала в туалет переодеваться, а вернувшись, начала руководить процессом упаковки и перепаковки пакетов. К счастью, к прибытию поезда все вещи были уложены, серая сумка перевязана веревочкой и бабка даже успела одеть свою черную кофту, совершенно не помявшуюся.
Поезд тихонько крался по пригороду. Нетерпеливые пассажиры, навьюченные чемоданами, сумками и пакетами стояли в проходе. Вот странные: неужели выйти не успеют на конечной-то станции? Бабка с Анатолием тоже встали.
Поезд плавно сравнялся с платформой.
- Дак Сашке-то ты позвонил ле? – опять забеспокоилась бабуля. – Встретит ле? Забудет ведь, как пить дать, забудет! Такой же ить, как и ты, безалаберный – ниче-то ему доверить нельзя!
Мужчина молча кивнул в сторону окна: на перроне, крутя головой по сторонам, маячил высокий парень – вылитый Анатолий. Бабка пошмыгала носом и стала тревожно перетаптываться на месте, вытягивая шею и пытаясь что-то разглядеть впереди:
- Дак че дверь-то она не открыват? Спит, ле че ле?
Брякнула опущенная ступенька, народ зашевелился, зашаркал ногами, зашуршал пакетами, медленно двинулся к выходу. Поднялась и я со своего места: пора!
На перроне отыскала глазами своих попутчиков: Анатолий с сыном, оба высокие, плечом к плечу, как солдаты на плацу, уже шагали в сторону привокзальной площади, бабка суетливым колобком катилась следом, что-то тараторя и хватая мужчин кого за рукав, кого за полу куртки. ***
Я стояла на быстро пустеющем перроне и смотрела вокруг. Здание вокзала было все того же бледно-зеленого цвета, в который его покрасили перед тем, как через Киров проезжал на БАМ Брежнев – лет 30 прошло с той поры, наверное. И двери те же самые, и фонари, и лестница перехода – все осталось таким же, как тогда, в годы моей студенческой юности. Как будто я приехала сюда не в плацкартном вагоне, а примчалась из будущего на машине времени.
Все было как тогда.
Вдруг мне показалось, что дохнул на меня сырой весенний ветер, пропахший терпкими ольховыми почками, и кто-то далеко-далеко запел старую, давно забытую всеми, песню...
Сердце тревожно вздрогнуло от острого ощущения реальности невозможного.
Это ты, мальчик мой Сережа?
Ты здесь?
Правда?
2009 г.